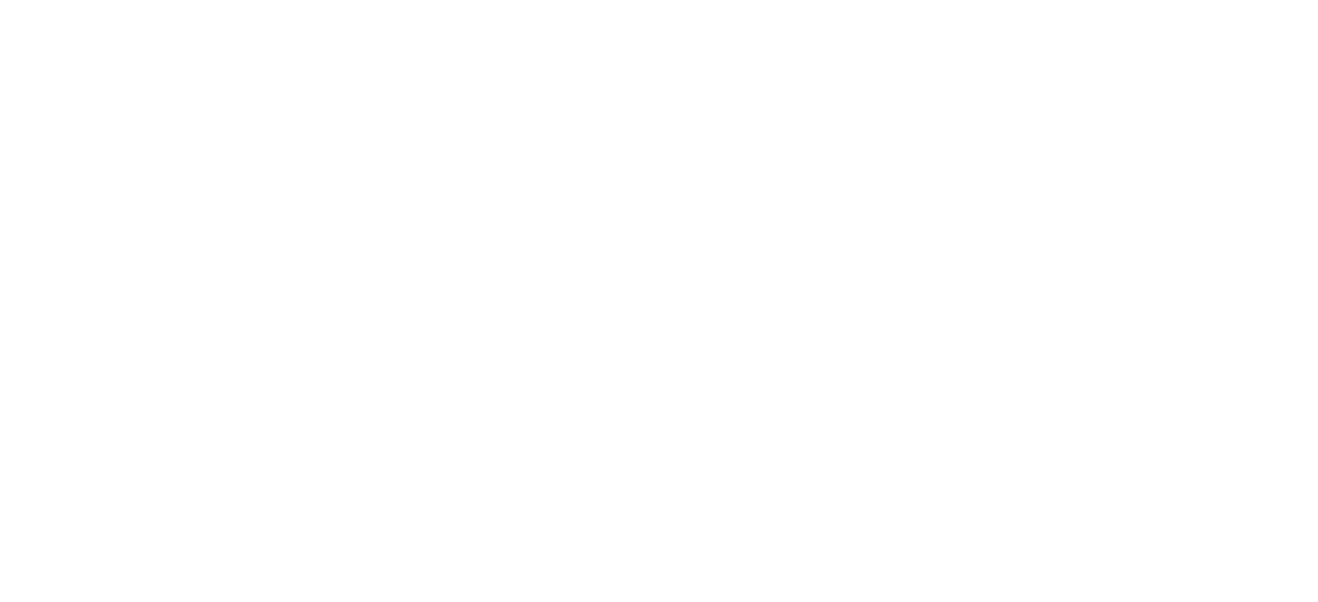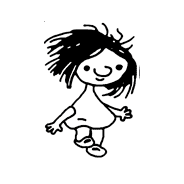Суздальский фестиваль 2025
Лауреаты, фавориты и все самое интересное
Лауреаты, фавориты и все самое интересное
Кадр из фильма «Алешенька», режиссер Дмитрий Геллер
Нынешний Суздаль был полон печали, умер один из любимейших людей всего анимационного сообщества Вадим Жук, поэт и импровизатор, сценарист и преподаватель, бессменный ведущий всех фестивальных торжественных мероприятий, превращающий официоз в шутку и радость. А главное сегодня – человек чести, моральный авторитет для многих. В этом году, правда, откуда-то поступило указание отстранить Вадима от проведения открытия, но он все равно приехал, был счастлив видеть друзей и учеников, а утром на второй день фестиваля внезапно умер от инфаркта. Все участники фестиваля были в таком шоке от этой смерти, что не отошли от нее до сих пор, и прочие события – скандальные, как показ на открытии неведомо откуда взявшегося фильма про «маленький танчик, мечтавший вырасти и бить врагов», и радостные, как награждение победителей, - для большинства аниматоров были заслонены этой смертью.

Вадим Жук. Фото автора
Программа ХХХ юбилейного смотра была большая. На большом экране смотрели и конкурсную, и внеконкурсную, а в медиатеке можно было увидеть все фильмы, присланные на фестиваль, среди которых особенно много стало учебных (эксперты жаловались, что студенты без разбора шлют все, что выходит из их рук, вплоть до учебных упражнений), так что общее представление о сегодняшней российской анимации можно было составить, не ссылаясь, как бывало, на то, что много хорошего оставлено отборщиками за бортом.. Действительно было несколько интересных фильмов, в последний момент снятых с конкурса (о причинах этого можно только гадать, поскольку с точки зрения закона ни в одном из них не было ничего запретного), но все их можно было увидеть в сети, так что общая картина для тех, кого она интересует, так или иначе складывалась. И картина эта, надо сказать, была довольно грустной. Понятно, что российская анимация потеряла многих из своего самого продуктивного среднего поколения – они больше не снимают фильмов, не преподают и вообще исчезли из отечественной профессиональной среды, для которой этот взаимообмен энергиями, идеями и дружбами очень важен. Но дело не только в этом. Есть ощущение, что в целом российскую анимацию сильно отбросило назад, она стала старомодной – и по дизайну с его пошлой милотой советских времен, и по сценариям с примитивным нарративом, и по архаическому киноязыку, и по вялому ритму. Как будто вернулись сюжеты, о которых когда-то писал Александр Татарский: «зайчик пукнул, мышка его пожалела, потом пришел мудрый ежик и вместе они спели об этом песенку». Конечно, это не касается звезд, они остаются собой, да и вообще, список победителей фестиваля выглядит неплохо, я говорю именно об общей картине, в которой анимация выглядит смотрящей назад, а не в будущее, как это было всего несколько лет назад.
Официальный плакат фестиваля
Список лауреатов и во многом совпадающая с ним двадцатка профессионального рейтинга, показывают, что фильмов, не попавших в фавориты, но стоящих разговора, мало. Надеюсь, я не пропустила чего-то важного.
Начну рассказ, как всегда с призеров, тем более что Гран-при и первое место профессионального рейтинга взял и мой главный фаворит - фильм Дмитрия Геллера «Алешенька» - смешной, безумный и страшный одновременно. Дима снова работает со своим братом Владимиром Геллером как сценаристом и это отличный тандем, сохраняющий свойственную Диме загадочность и моменты странностей, из-за которых кино хочется пересматривать, а вместе с тем строя сложную, но в целом ясную структуру, так что сюжет «Алешеньки» с его многочисленными побочными линиями можно пересказать. Причем источники в этом сюжете настолько разные, что удивительно, как их удалось связать в один узел. Наивная фантастика: малыши-гуманоиды играют на далекой планете в бадминтон, пока одного из них сердитая мама не зовет срочно домой. И он грустно садится на свою летающую тарелку, как на велик. Шпионская линия про американский самолет, в 1960-м сбитый в районе Свердловска. Сказочная линия про подземных жителей Урала: полуголую Хозяйку медной горы в кокошнике, бабку с черным лицом и змея с головой деда, над которыми разворачиваются события. И главный – знаменитый уфологический миф 1996-го года, а может и реальность – про найденного на Урале гуманоида, названного Алешенькой, «кыштымского карлика», которого усыновила бездетная женщина. А вокруг – родные для братьев Геллеров уральские виды и жители.
Документальное, сказочное и фантастическое соединяется: малыш-гуманоид, срезая путь, чтобы мама не ругалась, пролетает над землей, работяга из Кыштыма ворует электропровода на металл и удар электричества случайно сбивает летающую тарелку, малыша выхаживает и называет Алешенькой бездетная жена работяги, так что инопланетянин живет в Кыштыме, говоря на своем языке только «пи-пи-пи», пока его летающая тарелка из глубины земли пробирается к хозяину. Неожиданных деталей в этом сюжете множество, но самым сильным в фильме мне кажется все, что связано с Уралом и людьми, которые тут живут. Геллер дает понять, что это кино продолжает уральский цикл после «Хозяйки медной горы», даже цитирует его, вставляя в телепередачу хоровое пение «Рябины» страшными девами в кокошниках. Как всегда, с Димой работает его жена, удивительная художница Анна Карпова, она сохраняет и даже усугубляет экспрессионистскую манеру «Хозяйки» - корявую, мрачную, безумную, с отсылом к искусству арт-брют. Ему особенно подходит то неуклюжее движение марионеток, которого добивается Дима в анимации. Темнолицые герои лагерных и заводских мест делают фильм страшноватым, от них все время ждешь насилия, и в то же время, когда смотришь в их прозрачные светлые остановившиеся глаза, невольно вспоминаешь из Венечки Ерофеева: «Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь!». Внутри этого мира появление трогательного беленького Алешеньки, который и правда ведет себя как ребенок: тянет ручки и шлепает по мытому полу в маминых тапках, - похож на случайное включение в хоррор кусочка из детской книжки. И еще одна удивительная вещь: в фильме вроде бы есть текст, но практически нет разговоров: только обрывки речи из телевизора, мычание, бормотание, восклицания, разве что чтение на ночь, похожее на радиопередачу - это косноязычный, безъязыкий мир, что усиливает ощущение его непознаваемости и опасности. Единственные внятные разговоры в «Алешеньке» – у малыша с его инопланетной мамой на неведомом языке. И после премьеры фильма их «пи-пи-пи», как пароль, до сих пор повторяют все участники фестиваля.
Начну рассказ, как всегда с призеров, тем более что Гран-при и первое место профессионального рейтинга взял и мой главный фаворит - фильм Дмитрия Геллера «Алешенька» - смешной, безумный и страшный одновременно. Дима снова работает со своим братом Владимиром Геллером как сценаристом и это отличный тандем, сохраняющий свойственную Диме загадочность и моменты странностей, из-за которых кино хочется пересматривать, а вместе с тем строя сложную, но в целом ясную структуру, так что сюжет «Алешеньки» с его многочисленными побочными линиями можно пересказать. Причем источники в этом сюжете настолько разные, что удивительно, как их удалось связать в один узел. Наивная фантастика: малыши-гуманоиды играют на далекой планете в бадминтон, пока одного из них сердитая мама не зовет срочно домой. И он грустно садится на свою летающую тарелку, как на велик. Шпионская линия про американский самолет, в 1960-м сбитый в районе Свердловска. Сказочная линия про подземных жителей Урала: полуголую Хозяйку медной горы в кокошнике, бабку с черным лицом и змея с головой деда, над которыми разворачиваются события. И главный – знаменитый уфологический миф 1996-го года, а может и реальность – про найденного на Урале гуманоида, названного Алешенькой, «кыштымского карлика», которого усыновила бездетная женщина. А вокруг – родные для братьев Геллеров уральские виды и жители.
Документальное, сказочное и фантастическое соединяется: малыш-гуманоид, срезая путь, чтобы мама не ругалась, пролетает над землей, работяга из Кыштыма ворует электропровода на металл и удар электричества случайно сбивает летающую тарелку, малыша выхаживает и называет Алешенькой бездетная жена работяги, так что инопланетянин живет в Кыштыме, говоря на своем языке только «пи-пи-пи», пока его летающая тарелка из глубины земли пробирается к хозяину. Неожиданных деталей в этом сюжете множество, но самым сильным в фильме мне кажется все, что связано с Уралом и людьми, которые тут живут. Геллер дает понять, что это кино продолжает уральский цикл после «Хозяйки медной горы», даже цитирует его, вставляя в телепередачу хоровое пение «Рябины» страшными девами в кокошниках. Как всегда, с Димой работает его жена, удивительная художница Анна Карпова, она сохраняет и даже усугубляет экспрессионистскую манеру «Хозяйки» - корявую, мрачную, безумную, с отсылом к искусству арт-брют. Ему особенно подходит то неуклюжее движение марионеток, которого добивается Дима в анимации. Темнолицые герои лагерных и заводских мест делают фильм страшноватым, от них все время ждешь насилия, и в то же время, когда смотришь в их прозрачные светлые остановившиеся глаза, невольно вспоминаешь из Венечки Ерофеева: «Зато у моего народа – какие глаза! Они постоянно навыкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь!». Внутри этого мира появление трогательного беленького Алешеньки, который и правда ведет себя как ребенок: тянет ручки и шлепает по мытому полу в маминых тапках, - похож на случайное включение в хоррор кусочка из детской книжки. И еще одна удивительная вещь: в фильме вроде бы есть текст, но практически нет разговоров: только обрывки речи из телевизора, мычание, бормотание, восклицания, разве что чтение на ночь, похожее на радиопередачу - это косноязычный, безъязыкий мир, что усиливает ощущение его непознаваемости и опасности. Единственные внятные разговоры в «Алешеньке» – у малыша с его инопланетной мамой на неведомом языке. И после премьеры фильма их «пи-пи-пи», как пароль, до сих пор повторяют все участники фестиваля.
Трейлер фильма «Алешенька», режиссер Дмитрий Геллер
Теперь о других наградах. «Человек за шторой» Ивана Бондаренко получил приз как лучший фильм в главной, короткометражной номинации. Ваня снял загадочное кино, полное недоговоренностей и полунамеков о жизни семейной пары: мужчины, сосредоточенного на своих мыслях, и женщины, пытающейся заново обратить на себя его внимание. Каждое утро они пьют кофе у окна, но мужчина рассеян и женщина, видя молочника за окном, фантазирует о нем и немного дразнит мужа, пытаясь вызвать его ревность. А тот ловится на этот простодушный трюк. Историю мы скорее угадываем, чем видим, потому что Ваня придумал необычное изображение, в котором тающие линии и пятна скорее намечают героев и события, чем их ясно рисуют. Играющими становятся пустоты, воздух, «негативное пространство» вокруг героев и предметов, ритм движения этих пятен, когда мужчина впадает в ревность и панику. Я говорила с режиссером об этом фильме, о том, что он получился немного ребусом, Ваня согласился и сказал, что хотел «передать состояние пустоты и отсутствия». О том же самом он просил и звукорежиссера Лёшу Просвирнина, «чтобы было максимально ничего, чтобы был шум тишины и пустоты».
Трейлер фильма «Человек за шторой», режиссер Ивана Бондаренко
В той же конкурсной номинации вручили три диплома, и, пожалуй, мой любимый из этих фильмов – «Ремарки» Маши Якушиной, соединение документальной анимации и фантазии. Это очень личный рассказ Маши о том, как когда-то, отдыхая на море в маленьком отеле, она нашла там забытый гостьей роман «Триумфальная арка», а в нем закладкой был список вещей, которые та собиралась взять в отпуск. И рядом с каждым предметом в списке, был ее собственный комментарий, как будто женщина обсуждала вещи сама с собой. Машин фильм – это ее сегодняшние размышления о написавшей список хозяйке книги, условно названной Анной Петровной, соединенный с воспоминаниями о пляжном отдыхе, который постоянно заслоняют как тучи, серые герои из прочитанного романа, нарисованные на его страницах. Тени героев Ремарка, прошедших через первую мировую, фашизм и эмиграцию молодых людей отчаянного времени, как будто сидят с поднятыми воротниками длиннополых пальто за теми же столиками, что и нарядные отдыхающие. И когда они рядом, радоваться отпуску не получается, все время видишь, как их уносят темные поезда. Я очень люблю Машину иллюстраторскую манеру, ее тонких невесомых персонажей, умение поймать главное в пластике, но здесь важен была и режиссерский ход, вот эта непроговоренная вторая линия, как бы наша общая задняя мысль, которая не дает радоваться жизни.
Трейлер фильма «Ремарки», режиссерка Мария Якушина
Еще один диплом со смешной формулировкой «За то, что один режиссёр сделал хорошее кино из шляпы, пальто и цветной капусты», получил иронический фильм Светы Андриановой "Связи" по маленькому рассказу Даниила Хармса. Рассказ этот она уже экранизировала в своем последнем фильме «Хармс», но теперь показала его совершенно по-другому, вся драматургия тут строится только на предметах и это выходит очень остроумно и не прямолинейно. Надо сказать, в фильме «Хармс», который складывался из нескольких рассказов, Света в каждой следующей истории по-новому экспериментировала с манерой, техникой и картинкой, будто постоянно ища наиболее адекватный ход для абсурдистской прозы Хармса. В новом фильме она разыгрывает еще один ход, так что этот сюжет воспринимается прицепом к прошлой картине, как продолжение экспериментов, «бонус-трек», как говорит сама Света. Трейлер, выглядящий как ее фильм на быстрой перемотке я считаю еще одним экспериментом.
Трейлер фильма "Связи", режиссерка Светлана Андрианова
И третий диплом дали очень славному детскому фильму "Жил-был тигр". Режиссерами этого фильма значатся Марина Верик и продюсер студии «Фродо» Дмитрий Мосягин, но Марина сказала, что давно из этого проекта ушла, так что его заканчивали без нее, да и начинали, видимо, без нее: одним из авторов сценария указана Татьяна Киселева, вероятно, с нее фильм и начался. В общем, похоже, что это сложный долгострой с множеством сменяющих друг друга участников, но, несмотря на это, фильм про деликатного тигра в зоопарке, которому снится саванна, и наглого козла, забравшегося в тигриный вольер и назойливо опекающего соседа, выглядит цельно. Его дизайн обаятелен, анимация - живая и легкая, характеры решены точно и остроумно, так что диплом он получил не зря.
Кадры из фильма "Жил-был тигр", режиссеры Марина Верик и Дмитрий Мосягин
Еще у жюри есть спецпризы для короткого метра. Первый из них отдали фильму «Булгаков» Станислава Соколова. После 17-тилетнего долгостроя полнометражной «Гофманиады», кажется, что один из старейших и самых известных наших кукольников снял двадцатиминутного «Булгакова» стремительно. Станислав Михайлович подходит к новому сюжету подобно тому, как подходил к Гофману, смешивая эпизоды из жизни писателя с фрагментами булгаковских сочинений разных лет – тут есть и «Театральный роман», и сцена на Патриарших из «Мастера и Маргариты», и дневники. Режиссер использует фрагменты разных воспоминаний в рассказе о первых нищих московских годах молодого Булгакова и соединяет кукольную анимацию с рисованной (советские писатели в рисунках Оксаны Холодовой выглядят очень смешно, хотелось бы про них увидеть целое кино). Лучше всего объединяет эти несколько разрозненные эпизоды голос Виктора Сухорукова, который играет тут всех персонажей и, кажется, даже появляется в кадре верхом на драконе.
Трейлер фильма «Булгаков», режиссер Станислав Соколов
Второй спецприз отдали фильму «Последний киносеанс» Рима Шарафутдинова. На этот раз для своего излюбленного построения фильма, как каскада гэгов, Рим придумал сюжетный ход со стариком, который приходит в мультиплекс и ходит из одного зала в другой, где идут фильмы разных жанров: ужастик, мелодрама, вестерн, комедия. И тут, кроме возможности поразвлекаться с изображением испуганной или влюбленной публики, есть прекрасный повод сделать нарезку из пародий на разное классическое зарубежное и советское кино, которое зрители, конечно, с удовольствием будут узнавать, потому что кто ж его не любит?
Кадры из фильма «Последний киносеанс», режиссер Рим Шарафутдинов
Лучшим фильмом для детей назвали картину «Глупая собака» дебютантки Дарьи Ищейкиной, не так давно закончившей режиссерские курсы при СМФ. Это совсем коротенькая смешная и умилительная история о старушкиной собачке, любимой вечной безобразнице, которую бабушка каждый раз со вздохом, вынимая из кучи мусора или из аквариума называет «глупой собакой». Но в финале мы узнаем, что эта собака совсем не глупая, а почти профессор, но скрывает это и очень любит свою хозяйку.
Кадры из фильма «Глупая собака», режиссерка Дарья Ищейкина
В небольшой, как обычно, конкурсной номинации «Дебюты» приз получил фильм «Смерть человека невидимки» Валентина Тютерева, бывшего ученика Алексея Демина во ВГИКе, я его хорошо помню по раннему студенческому фильму «Метро», замечательной живописной работе, сделанной главным образом в конструктивистском духе. Вообще Валентин имеет вкус и талант к стилизации, очень интересно работает с разным характером изображения, и его новый фильм, снятый по мотивам романа Уэллса «Человек-невидимка» продолжает эту линию. Его кино переносит действие романа конца ХIХ века в середину ХХ, и режиссер строит фильм как иллюстрацию к последней речи в суде героя, приговоренного к смерти на электрическом стуле. Тютерев играет с графикой, и книжной, и комической анимационной 50-х – 60-х годов, судебную хронику показывая в духе американских газетных рисунков из судов, а газеты, которые читает герой, будто относятся к временам маккартизма. Держа стиль, он точно так же работает со звуком (звукорежиссер Саша Чирков), неслучайно рассказчик говорит в фильме по-английски, а мы слышим перевод, причем тоже со старомодными интонациями, и саундтрек заканчивается рок-н-роллом. Видно, что у этого фильма серьезный бэкграунд, Валентин по-настоящему подготовился, но именно потому, что он одаренный человек с большими амбициями, хотелось бы ждать от него большего, а то пока есть ощущение, что увлечение играми со стилем не дает ему увидеть что-то главное и в первую очередь человека.
Трейлер фильма «Смерть человека невидимки», режиссер Валентин Тютерев
Два диплома в этой номинации получили, во-первых, фильм «Трамвай № 13» Ирины Ковтун, бодрое кукольное кино в духе старого Союзмультфильма о девочке, победившей Смерть, спасая бабушку. Этот фильм мы показывали на БФМ. А во-вторых, фильм «Михалыч» уральского режиссера Вадима Иванова, сделанный в нечастой сложной технике живописи на стекле. История про пенсионера-гармониста Михалыча, торговавшего инструментами на трамвайной остановке, и про вредную ворону, все время ему мешавшую, снята очень в духе екатеринбургской школы, передавая ее атмосферу и колорит. В этом фильме видны отсылки и к фильмам Оксаны Черкасовой (она была худруком картины), и Кати Соколовой (особенно ее деревенской «Глупой» по Ковалю тоже про ворону), и многим другим знаменитым уральским картинам. А интонация его так подчеркнуто несовременна, как будто автор специально хотел, чтобы все думали, что его фильм снят во времена золотого века уральской анимации, тридцать лет назад. И было похоже, что Вадим Иванов (как я слышала, снимавший фильм очень долго), скучает по прошлому так же, как Михалыч скучает по своей советской молодости с парадами и танцами в клубе.
Кадры из фильма «Михалыч», режиссер Вадим Иванов
Теперь о наградах студенческим фильмам. Приз отдали дипломнице Ростовского-на-Дону филиала ВГИКа Юлие Задарко за фильм «Весёлый парень», хорошо придуманную и разыгранную историю про болтающую руками длинную надувную фигуру, которую хозяин киоска с шаурмой выставил для рекламы. Надувной веселый парень все время хотел танцевать, но люди его сторонились, пока после множества приключений, уже порванный и выброшенный он не попал в специальный рай для надувных фигур, где его надувные друзья готовы были с ним танцевать с утра до вечера. Кино получилось с хорошим ритмом и вообще Юля явно растет как режиссер. Надо сказать, она уже получала приз Суздаля два года назад за фильм, снятый всего лишь на втором курсе – наивный анимадок по интервью с мамой «Мама и животные». А на последнем БФМ мы показывали ее коротенький фильм «Речка», снятый во время интенсива Лизы Скворцовой «Energy Injection» по детским воспоминаниям о смешном приключении во время каникул с родителями. Авторов, умеющих снимать легкое и радующее людей кино сегодня так мало, каждый из них буквально на вес золота, поэтому очень надеюсь, что у Юли будет возможность и дальше снимать авторское кино и она не будет сразу задушена сериалами.
Трейлер фильма «Весёлый парень», режиссерка Юлия Задарко
Дипломов в этой номинации было три. И, пожалуй, самый необычный фильм из награжденных - «Социально одобряемые положения тел в пространстве», курсовая работа вгиковской студентки Алексея Демина Леры Олейниковой. Под все более напряженный ритм «Пляски смерти» Сен-Санса, плотной темной гуашью Лера рисует казалось бы не связанные единым сюжетом микроэпизоды, начиная с детей, танцующих вокруг елки и людей, делающих гимнастику, до рвущихся в бой «Рабочего и колхозницы». В этом контексте все действия кажутся угрожающими, а танец все более нервным. Не могу сказать, что я понимаю, что именно мне хочет сказать Лера, вероятно, у каждого зрителя в голове складывается своя история, но, когда в финальном эпизоде елка, которую мы видели в начале, вспыхивает пожаром, уже не удивляешься.
Трейлер фильма «Социально одобряемые положения тел в пространстве», режиссерка Лера Олейникова
Второй диплом получил фильм еще одного вгиковского студента Тимофея Скисова «Вчера мне было 9 лет» - история про то, как мальчик, живущий вместе с дедом, пошел перед Новым годом покупать ему подарок на скопленные деньги, но потерял сувенир, заблудился в метели, испугался и вернулся праздновать уже когда было темно, а дед с ума сходил от беспокойства. Кино сделано из бумажек, тряпочек, ваты и прочего хлама, как объемная перекладка, с большой любовью к фактуре материала и, пожалуй, в его «грязной» предметности, коллажах из всякого старья и есть главное обаяние фильма. Занятно еще, как видно, что перед глазами у режиссера постоянно стоял норштейновский «Ежик в тумане», от начала («а я ему скажу… а он мне скажет…») до момента, когда мальчик потерял подарок и в панике начал метаться, как ежик в поисках узелка. Я это без всякого осуждения говорю: для студента подражать классике не стыдно, тем более, что получилось вполне убедительно. Мне, правда, кажется, что чтение «Снег идет» как только в кадре повалил снег – это штамп, от которого лучше было отказаться. Но раз уж кино имеет успех, посмотрим, что будет снимать режиссер дальше.
Трейлер фильма «Вчера мне было 9 лет», режиссер Тимофей Скисов
А третий диплом получил анимадок «Совсем секретно», снятый Елизаветой Горской в школе документальной анимации на фестивале «Рудник». Кино, частично рисованное, частично сделанное как коллаж из архивных фотографий, записок и любительского видео, посвящено ветиному папе, который уже умер. И это один из рудниковских фильмов (не единственный), где автор пытается что-то понять про близкого человека, которого уже нет, попросить у него прощенья за то, что когда-то не сделал, а теперь кажется, что напрасно, умилиться тому, что раньше раздражало, восхититься, признаться в любви, наконец. Конечно, кино, сделанное за неделю, неизбежно получается эскизным, но я эти фильмы очень ценю именно за то, что человек находит возможность оглянуться и пересмотреть то, что казалось окончательным. В фильмах, которые снимаются на «Руднике», всегда очень важен в сам процесс, меняющий автора. Когда человек приезжает с определенной мыслью о будущем фильме, а пока размышляет над сценарием и снимает, - изменяет ее, становится внимательнее, глубже, примиряется внутри себя с тем, с кем был в ссоре или отчуждении.
Кадры из фильма «Совсем секретно», режиссерка Елизавета Горская
В этом году на конкурс от «Рудника», к которому я имею отношение, было подано несколько фильмов, что-то прошло в конкурс, что-то показывали во внеконкурсной программе, что-то можно было увидеть только в медиатеке, но был один фильм, понравившийся отборщикам, а потом по почему-то снятый с показов, и в нем история выглядела еще более болезненно, чем в фильме Веты. Лиана Макарян сняла «Про Соню» - короткую эпитафию на смерть своей подруги, уложив в четыре минуты нарядной анимации рассказ о знакомстве, студенческой дружбе, расхождении и гибели Сони. Лиана старалась обойтись без слез, сделать это кино легким, со смешным дизайном, будто бы рассчитанным на детей, но горестная интонация, чувство вины, сожаления о чем-то не сделанном, чувствуются в этом маленьком фильме очень остро.
Трейлер фильма «Про Соню», режиссерка Лиана Макарян
По фильмам молодых режиссеров, поданным на суздальский конкурс, видно, как значим для них сегодняшний анимационный тренд на документальность и в первую очередь, конечно, на рассказ личных историй, но и не только на них. В фильмах режиссеров старшего поколения этого почти нет, снимают главным образом фантазии, а о своем опыте даже в авторском кино говорят скорее эвфемизмами, опосредованно, через что-то другое. Но то, что анимадок в России перестал быть маргинальным, очевидно, и разговоров об этом методе становится все больше. Конечно, сегодня не самое благоприятное время для документальности, но от нее уже никуда не деться. Пожалуй, самые продуктивные споры об анимационной документалистике из мастеров сегодня заводит Костя Бронзит, ее последовательный противник. С ним в социальных сетях спорят молодые и мне кажется, что эти споры очень важны, потому что Костя – педагог, и, даже когда сердится, то не отмахивается, а подробно аргументирует свою позицию, и это дает возможность его противникам сформулировать свою. Эти споры уже превратились в мемы, где герой всегда Костя, его аргументы становятся афоризмами, а из его выступлений молодые аниматоры делают рэп. Вот, например, такой сделал Никита Мещеряков, режиссер и музыкант, президент Суздальского фестиваля в этом году.
«Бронзит Рэп», автор Никита Мещеряков
Ну и добавлю еще один видео-мем Никиты на тему анимадока и Бронзита
"Luntik.doc", автор Никита Мещеряков
Именно тут самое место сказать, что в полнометражном конкурсе Суздаля именно Константин Бронзит получил приз за фильм для малышей «Лунтик. Возвращение домой».
Трейлер фильма «Лунтик. Возвращение домой», режиссер Константин Бронзит
А теперь перейду к рассказу о нескольких фильмах, не ставших лауреатами фестиваля, но, на мой взгляд, стоящих внимания. Какие-то из них попали в двадцатку профессионального рейтинга, а значит были среди фаворитов фестивальной публики тоже. Вторым номером рейтинга, сразу после «Алешеньки» был фильм вгиковской дипломницы Анастасии Лис «Сказка искорки», многодельное кукольное кино о ребенке, которого везут с мамой в товарняке в концлагерь, и ему снятся страшные и непонятные фантастические сны, где он то в лесу спасается от кого-то, то плывет под водой. Валяные из шерсти куклы выглядят трогательно, лес с распускающимися цветами эффектен, Настя нашла хорошую метафору с домом, куда прибегает ребенок, а дом оказывается чемоданом, который захлопывает и забирает огромная темная рука. Я не совсем понимаю, откуда пришла к Анастасии эта тема, но в любом случае сюжет про страх, побег, попытку спастись от неведомого ужаса, сегодня выглядит актуально. И финал, в котором мы сквозь туман видим несущую на руках ребенка раздетую маму, за которой захлопывается дверь, и уже на титрах слышим шипение пущенного газа, - действительно кажется страшным. Хорошо, что фильм, хоть и невеселый, так полюбили и коллеги, и зрители (в народном голосовании на платформе Suzdalfest.online он взял второе место) и удивительно, что жюри совсем не обратило на него внимания, хотя для студенческого кино такое качество и такой объем работы большая редкость.
Кадры из фильма «Сказка искорки», режиссерка Анастасия Лис
Еще один фильм, тоже ставший фестивальным фаворитом (третье место профессионального рейтинга), но не получивший призов – «Аниметро» Наташи Грофпель. Это нарядная и полная смешных наблюдений история про метро антропоморфных животных, в котором действует героиня – длинноногая одинокая леопардиха Марина в поисках пары, вагонный вор Хамелеон и множество очень знакомых типов, превратившихся в животных. Я люблю Наташину яркую графику, всегда с восторгом рассматриваю ее гротескные, полные юмора наброски, особенно лихие скетчи с бурлеск-шоу, которыми она делится у себя в социальных сетях. Я всегда мечтала, чтобы она соединила их со своим анимационным даром и сделала фильм про всех этих людей, которых она так нестандартно видит. Фильма про людей пока нет, но практика постоянного скетчинга наверняка повлияла на Наташин новый фильм, хотя в нем графика немного жестче, чем в набросках, без той обаятельной небрежности, но юмор и наблюдательность те же. Кстати, леопардиха к финалу фильма все же нашла себе пару, причем на станции с названием «Влюблино».
Трейлер фильма «Аниметро», режиссерка Наталья Грофпель
Еще один стОящий фильм из рейтинговой двадцатки вообще пришел из внеконкурсной программы, такого, мне кажется, еще не бывало. Это очередной альманах по стишкам-пирожкам «Желтый водолаз», в котором на этот раз участвовали 11 режиссеров (Андрей Кузнецов, Екатерина Милославская, Рим Шарафутдинов, Светлана Разгуляева, Евгений Фадеев, Александра Лукина, Юлия Франке, Анна Достоевская, Оксана Броневицкая, Мария Якушина, Игорь Мельников). Все входящие в него микро фильмы были основаны на "пирожках" Игоря Мельникова, абсурдных и вместе с тем печальных. Понятно, что при таком количестве эпизодов все они разного качества, но, как всегда, есть хорошие и очень хорошие (мне, например, особенно, нравятся тут сюжеты Андрея Кузнецова и Светы Разгуляевой). Жалею, что альманахи нельзя разбить, чтобы поштучно, например, отправлять на фестивали минутных фильмов. «Желтый водолаз» - уже пятый сборник, но, как грустно предполагают авторы, - последний,на следующий получить господдержку не удалось. Жалко будет, если этот «низовой» коллективный проект совсем закончится, надеюсь, выход все же найдется.
Трейлер альманаха «Желтый водолаз», режиссеры Андрей Кузнецов, Екатерина Милославская, Рим Шарафутдинов, Светлана Разгуляева, Евгений Фадеев, Александра Лукина, Юлия Франке, Анна Достоевская, Оксана Броневицкая, Мария Якушина, Игорь Мельников.
В рейтинг не попал, но на меня произвел впечатление фильм Оксаны Черкасовой из большого проекта студии «М.И.Р.» по классической музыке для детей. Оксана сняла «Болезнь куклы» Чайковского в ретро-стиле, соединив коллаж из старых фотографий со стоп-моушном. Получилось кино о том, каким живодерским кажется лечение куклы в детских играх (в финале кукла, замотанная в бинты, как мумия, убегает от мучителей). Причем выглядит это кино, сложенное из постановочных детсадовских фотографий в нарядах медсестер и детских медицинских наборов, очень стильно и современно. Вот фильм целиком.
Фильм "Детский альбом. Пётр Ильич Чайковский. Болезнь куклы", режиссерка Оксана Черкасова.
В конце рейтинга был еще один фильм, на который я обратила внимание прежде всего из-за сценария (картинка была не слишком интересная и это, к сожалению, обычная проблема для питерской киношколы). В ленте дипломницы Санкт-Петербургского Университета Кино и Телевидения Софии Осиповой «Это случилось утром» - очень трендовый сегодня сюжет о стариках и о деменции, снятый неожиданно в оптимистическом ключе. В нем старушка просыпается и видит, что ее муж превратился в лежащую на спине огромную черепаху (не вспомнить тут «Превращение» Кафки невозможно) и дальше действие развивается от того, как она за черепахой ухаживает до того, как они встречаются вместе на полянке уже как две черепахи.
Кадры из фильма «Это случилось утром», режиссерка София Осипова
И еще один дебютный фильм, не попавший ни в лауреаты, ни в рейтинг, а между тем свежий и славный – «Соединение неустойчиво» Дарьи Шишовой. Сюжет, в котором человек с рюкзаком отправляется за город, включив в наушниках аудиокурс английского, выглядит не слишком внятно, но изобразительно живописно и атмосферно: большой город в грозу, вечерние поля, путник, превращающийся в великана посреди природы и его гигантский черный кот, ставший тучей. Я, пожалуй, буду теперь интересоваться тем, что снимает Дарья.
Кадры из фильма «Соединение неустойчиво», режиссерка Дарья Шишова
Кстати, среди дебютов был еще один, смешной и хулиганский, но не попавший в конкурс – анекдот выпускницы режиссерских курсов при СМФ Варвары Аренской «Девочка и топор» об энтузиастической малышке, которая, когда уснул лесоруб, изрубила в щепки километры леса, а когда он сказал ей, что теперь придется деревья сажать, засадила все до горизонта.
Кадр из фильма "Девочка и топор", режиссерка Варвара Аренская
Ну и напоследок два слова о прикладной программе, главный победитель которой, снятый для театра музыкальный фильм Леши и Маши Ермолаевых «Никогда я не был счастливей», взял награду и на последнем БФМ. Из музыкальных видео мне интереснее других показались снятый Ирой Эльшанской для концертов группы «Кино» клип «Верь мне». В нем художница Маша Савенкова использовала ярких квадратных человечков с картин Цоя, и они тут строят Вавилонскую башню в конструктивистском духе.
Фрагмент клипа "Верь мне" (группа "Кино"), режиссерка Ирина Эльшанская
Грустный клип «Любовь и смерть» на композицию группы «Встреча рыбы» сняла студентка Вышки Полина Андреева, соединив рисованную анимацию с просвечивающим из-под нее видео.
Клип «Любовь и смерть» (группа «Встреча рыбы»), режиссерка Полина Андреева
И последний клип этого обзора - «Я – Луна» группы «Серебряная Свадьба», снятый Анастасией Кульчик из Санкт-Петербургского института культуры. Анастасия, надо сказать, не первая снимает анимационный клип по «Луне», но уж больно песня хороша, да и новый клип, хоть анимация в нем кажется немного ученической, смотрится симпатично.
Клип «Я – Луна» (группа «Серебряная Свадьба»), режиссерка Анастасия Кульчик
На этом заканчиваю обзор лучших фильмов Суздальского фестиваля. Надеюсь, осенью нам удастся показать их в Москве на БФМ вместе с новыми картинами, которые еще снимут до тех пор. До следующих фестивалей!
Читайте в Блоге БФМ: